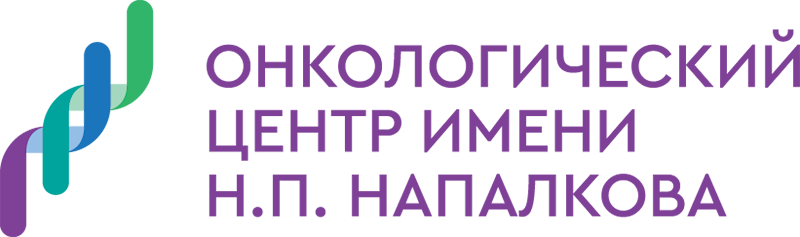Окончательный диагноз
В Санкт-Петербургском онкологическом центре появился научный отдел. Факт для российского практического здравоохранения, без преувеличения, уникальный: клиницистам обычно не до науки. Но в онкоцентре решили, что именно фундаментальные исследования, имеющие самое прямое отношение к ежедневной лечебной практике, подтолкнут врачей к повышению своего профессионального уровня. Возглавил научное направление ученый тоже уникальный — профессор Дмитрий МАЦКО, выпустивший в прошлом году 2-е издание руководства для врачей «Нейрохирургическая патология». Дмитрий Евгеньевич — член президиума Российского общества патологоанатомов и Международной академии патологии — безгранично предан своей профессии, полагая, что без высокопрофессиональных патоморфологов современная медицина просто невозможна: именно эти люди ставят диагноз, например, при обнаружении опухоли, и именно они помогают врачу выстроить правильную тактику лечения.
— Ваша книга, Дмитрий Евгеньевич, быстро стала букинистической редкостью...
— Она оказалась столь востребована, поскольку это единственное в стране руководство подобного рода.
Между тем в США и Европе патологи используют в своей работе 32 тома Атласа Института патологии министерства вооруженных сил (AFIP) и многотомные гистологические классификации опухолей ВОЗ (так называемые голубые книги). И все эти справочники являются, по сути, настольными книгами исследователей, которые обязаны правильно ставить диагноз, опираясь на то, что видят под микроскопом. Увы, в России слово «патологоанатом» ассоциируется в основном с посмертным диагнозом, и редко кто задумывается о том, что в той же онкологии именно за этим специалистом — последнее слово в постановке окончательного диагноза.
Возможно, я просто старею и оттого говорю, что «раньше все было лучше»? Но ведь действительно, когда я начинал — 40 лет назад, — в той же Академии наук было много патологоанатомов, чьи имена гремели на весь мир, и сегодня все помнят не так давно ушедших Ипполита Васильевича Давыдовского и Алексея Ивановича Абрикосова. А сейчас зарубежные коллеги мало кого знают из российских специалистов, да и у меня пальцев на одной руке хватит, чтобы сосчитать всех, кто представлен в современной Академии наук по нашей специальности. Сегодня в стране работают всего около четырех тысяч специалистов, и это как минимум вдвое меньше необходимого.
— Может быть, глаз патологоанатома можно заменить роботом?
— Это навряд ли... Хотя есть попытки внедрять и в нашей специальности всевозможные гаджеты: понятно, что чем лучше оснащена лаборатория, тем легче работать специалистам. Но результат работы патоморфолога полностью зависит от его квалификации. И чем она выше, тем быстрее будет получен результат и тем качественнее он будет.
— Кстати, а как долго надо ждать ответа на исследование ткани, скажем, на наличие опухоли?
— В идеале — ответ лаборатория должна дать на следующий день. Если нет необходимой аппаратуры, а только опытный глаз лаборанта — через неделю. Ну а если нет у человека хороших знаний и надо бежать к соседям, чтобы «показывать стекла», то так и ждут врачи и пациенты ответа неделями. Хотя морфологический диагноз в онкологии — основа для всех дальнейших шагов.
Правда, в любом медицинском учреждении среди патоморфологов всегда находятся энтузиасты, на которых все и держится, и я вижу в этой ситуации положительный момент: «серенький» выпускник медвуза ради денег сегодня пойдет в гинекологи, а лучший, талантливый, — к нам, в патологи!
— Вообще такая ситуация только в нашей стране сложилась?
— Как известно, в мире самыми высокооплачиваемыми профессиями в медицине считаются нейрохирурги и кардиохирурги. Это заслуженно, потому что для того, чтобы стать первоклассным специалистом в этих областях, надо пройти неимоверно тернистый и многолетний путь обучения.
Патологоанатом напрямую не участвует в лечении — он подтверждает или опровергает диагноз клинициста, так что он не должен претендовать на такую же зарплату, но раза в два меньше, чем кардиохирургу, — вполне достаточно. Иногда зарубежные коллеги, зная мои регалии, говорят: ты, наверное, живешь в роскошной вилле на берегу озера...
— Но вы и живете в Комарове, на берегу залива — правда, в стареньком щитовом домишке...
— И очень этому радуюсь, мне хватает. Но нам, думаю, не надо сравнивать себя с западными коллегами: если у государства денег не так много, то их, конечно, отдадут кардиохирургам. Жаль, что некогда престижная профессия сейчас в полном загоне, хотя она по-прежнему остается очень интеллектуальной: выучить все наизусть невозможно и важно ориентироваться, в какой момент куда заглянуть.
Есть ли в медицине другая специальность, где профессиональная «библия», которой ты пользуешься, насчитывает 32 тома? И это только опухоли. Я должен быть высоко образован, чтобы знать, в какой момент какой том атласа снять с полки.
Кстати, был бесконечно горд, когда в прошлом году патоморфологи из нашего онкоцентра заняли первое и третье места во всероссийском конкурсе «Окончательный диагноз»: более двухсот специалистов должны были за неделю проанализировать 14 конкретных примеров опухолевых тканей, а в жюри участвовали российские, чешские и итальянские специалисты. Победила наша Ксения Шелехова, хотя предложенные для анализа примеры были крайне сложными — большинство образцов представляли очень редкие опухоли, с которыми даже я никогда не встречался.
Хотя в моей книге — более тысячи примеров из моей личной практики. Руководство писалось 10 лет, и для меня лучшая награда, что коллеги буквально воровали его друг у друга. Но с момента выхода книги уже скопилось много новых интересных случаев.
— Один из них вы представили в докладе на последнем Европейском съезде патологов в Белграде?
— Пример этой опухоли я взял из нашего совместного исследования с нейрохирургами из НИИ им. Поленова: предварительно опухоль была диагностирована как глиобластома. Но когда мы сделали дополнительные исследования, то увидели, что в «одном флаконе» собрались совершенно разные элементы. Я никак не мог нащупать биологическую сущность этого образования, хотя было сделано около 40 исследований.
Мы с группой соавторов отправили доклад в Белград, и уже когда там меня спросили: но в итоге, что же это такое? — я признался: не знаю. Эта опухоль имела два совершенно разных ростка с разными характеристиками (один очень злокачественный, а другой — менее «злой»), которые каким-то образом уживались друг с другом и друг друга заставляли генерировать. Коллеги с улыбкой предложили назвать ее «опухолью Мацко».
— Слушая вас, невольно думаешь, что опухоли тоже переживают процесс эволюции...
— Безусловно. Сегодня в онкоморфологии происходят совершенно революционные изменения, и обусловлены они прежде всего открытиями в молекулярной биологии. Так, за семь лет, прошедших с предпоследнего выпуска классификации опухолей мозга, выпущенной ВОЗ, мы получили как минимум 4 «новых» варианта новообразований, доселе никогда не встречавшихся. А патоморфология становится уже мультидисциплинарной специальностью, поскольку мы теперь работаем в связке и с хирургами, и с генетиками, и с химиотерапевтами.
— Но чем сложнее становится процесс, тем более труден путь к окончательному диагнозу, и тут несомненна важность так называемого второго мнения. Пациент имеет право его получить?
— Я не так давно написал статью о гипердиагностике глиобластом: часто этот безнадежный диагноз, когда больной, по сути, приговорен, ставится опухолям с более хорошим прогнозом. И, на мой взгляд, сегодня без второго мнения в нашей специальности просто не обойтись, и пациенты и их родственники непременно должны эту свою возможность использовать.
Правда, моим коллегам это не всегда нравится, они начинают придумывать всевозможные способы, затрудняющие людям доступ к информации. Например, ученый совет одного петербургского НИИ принял решение выдавать образцы тканей только по официальному запросу медучреждений, благо такое право дает нормативный документ Росздравнадзора, где и прописана подобная процедура. Однако в этом же документе говорится о том, что «допускается их выдача» больным и их родственникам.
Во-первых, двоякое чтение документа позволяет по-разному его трактовать. А, во-вторых, по прихоти этих «ученых» больной должен из центра города приехать к нам, в Песочный, за 30 — 40 километров, ради запроса, потом за препаратами в этот НИИ, а потом опять к нам. Я считаю это банальным чванством моих коллег и их боязнью, что кто-то вдруг опровергнет их диагноз!
Вообще чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что все в этом мире, и в медицине в том числе, зависит от человека: от его внутренней организации, от его взглядов на окружающий мир. Например, одни публикуются в научных журналах, просто чтобы делать карьеру, а другие хотят донести миру свои результаты, свое видение той или иной проблемы, и мне симпатичнее вторые, хотя их, увы, сегодня меньше, чем первых.
Кстати, я как-то спросил немецкого коллегу, почему все же российские авторы так редко печатаются на Западе? В ответ услышал: когда нам присылают работу, мы, не читая ее, запускаем в специальную программу прилагаемый к статье список литературы, и именно у авторов из России в нем на 10 источников — 20 ошибок! И все — статья возвращается: если вы не в состоянии должным образом отнестись к формальной вещи — к составлению списка литературы, — мы не рассматриваем вашу работу вообще, потому что точно так же небрежно написана и сама статья!
В этом наверняка есть сермяжная правда: у безупречной научной работы — безупречный список цитат. Хотя и в стремлении публиковаться за рубежом тоже может быть место амбициям, самоутверждению — в хорошем смысле слова. Еще Ганс Селье, имя которого мы связываем с понятием о стрессе и который, между прочим, был патологом по профессии, говорил, что вся наука движется тщеславием.
Источник: Санкт-Петербургские ведомости